Кассация
Однако увиденные мной документы кассационной инстанции, подписанные людьми, занимавшими должности на высшей ступени существовавшего в то время правосудия, свидетельствовали об ином. Это были люди с достаточно большим жизненным опытом, высшим юридическим образованием, применявшие свои знания еще в дореволюционном суде, в состязательном процессе.
Полагаю, что именно это обстоятельство повлияло на принятие кассационной инстанцией, рассматривавшей жалобы осужденных, решения об отмене приговора трибунала в связи с допущенным нарушением прав подсудимых на защиту и нарушением тайны совещательной комнаты при вынесении приговора. Такое решение меня порадовало и несколько удивило, поскольку даже современное правосудие не всегда решается на отмену приговора при аналогичных жалобах осужденных. Приведу дословно этот документ.
Определение № 485
5 декабря 1918 г.
Кассационного Отдела при Всероссийском Центральном
Исполнительном Комитете Советов Рабочих, Красноармейских,
Крестьянских и Казачьих Депутатов.
Кассационный Отдел В.Ц.И.К в составе председателя Отдела т. О.Я.Карклина и членов Отдела П.А.Красикова и Е.Б.Пашуканиса в присутствии председателя обвинительной Коллегии Н.В.Крыленко, заслушав и рассмотрев в заседании своем от 5 декабря 1918 г. кассационную жалобу на приговор Саратовского Революционного Трибунала от 6 октября 1918 г. по делу священника Платонова, протоирея А.Хитрова и епископа Германа (Николая Косолапова), осужденных за деяния, имевшие целью возмущение масс против Правительства Российской Республики: Платонов – к расстрелу, Хитров и Косолапов к тюремному заключению сроком на 15 лет с принудительными работами, нашел: что трибунал, допустив к судебным прениям защитника по назначению, вопреки заявлению подсудимых о том, что они от такого отказываются, нарушил право подсудимых, что во вторых протоколом устанавливается присутствие в совещательной комнате лица, не принадлежащего к составу Трибунала, а именно секретаря Сергеевой, подписавшего приговор, что эти два нарушения лишают приговор силы судебного решения, а потому
О п р е д е л и л:
Приговор Саратовского Революционного Трибунала от 6 октября 1918 года отменить и дело передать на вторичное рассмотрение в том же Трибунале в ином законном составе.
Повторное заседание трибунала состоялось 10-11 января 1919-го года и проходило в этом же зале консерватории. В итоге священник Платонов был приговорен к 20 годам лишения свободы, а епископ Герман и протоирей Хитров – к 15 годам лишения свободы.
Находясь в Саратовской губернской тюрьме, Косолапов Н.В. 28 марта 1919-го г. направил прошение в Саратовский революционный трибунал о своем освобождении из-под стражи, так как 19 декабря 1918-го г. Комиссией по применению амнистии он был освобожден и амнистирован в соответствии с Актом об амнистии, объявленной 6-ым съездом Советов 6 ноября 1918-го года.
«Прошение епископа Германа в революционный трибунал
об освобождении
28 марта 1919 г.
В Саратовский Губернский Революционный Трибунал
Содержащегося в Саратовской Губернской тюрьме
Гражданина Николая Васильевича Косолапова
(Епископа Германа)
Прошение
Саратовский Революционный Трибунал приговором своим от 11 января сего года определил: признать по отношению ко мне – факт инсценировки запрещения богослужения в Серафимовской церкви – советской властью доказанным и подвергнул меня тюремному заключению на 15 лет с принудительными работами. Приговор этот был вынесен после вторичного разбирательства в Революционном Трибунале. В первый же раз дело мое слушалось в Трибунале 6-го октября 1918 года, и Я приговорен был к тому же наказанию, как и 11 января 1919 года. Но приговор этот был отменен Кассационным Отделом 5 декабря 1918 года.
Между первым и вторичным после отмены приговора рассмотрением моего дела в Революционном Трибунале, последовал акт об амнистии 6-го съезда Советов от 6-го ноября 1918 года. Ввиду этого, Комиссией по применению амнистии Я был 19 декабря 1918 года освобожден из под стражи, амнистирован и, однако, по каким-то основаниям моя амнистия была аннулирована и дело мое снова было поставлено на суд Трибунала, который 11-го января сего года и вынес мне вышеозначенный приговор. Между тем, согласно разъяснению Кассационного отдела при Всероссийском Центральном Исполнительном Комитете от 23 февраля 1919 года, распубликованному в Известиях В.Ц.И.К № 42, до рассмотрения моего дела 11-го января сего года ко мне должна была быть применена амнистия, ибо в 1 пункте этого разъяснения прямо указывается, что освобождаются те лица, коим не предъявлено обвинение вовсе или предъявлено, но НЕ «в непосредственном участии в заговоре против Советской власти или подготовке, или в организации белогвардейских сил, или в содействии партиям и группам, которые явно поставили себе целью вооруженную борьбу против Советской власти» (п.1). Безусловно, мое деяние не может быть квалифицировано по тем признакам, о которых говорится в 1 пункте, как непосредственное участие в заговоре и т.п., а потому ко мне и должна была быть применена амнистия. В самом деле, в приговоре Трибунала все конкретные признаки моего деяния описаны так, что это деяние несомненно погашается амнистией. Кроме того, при рассмотрении дела Трибунал не вошел в обсуждение вопроса о применении амнистии, согласно 3 пункту. Настоящим я и обращаюсь в Трибунал в силу указанного разъяснения Кассационного Отдела от 23 февраля 1919 года вновь рассмотреть вопрос об амнистировании меня. В 3-ем пункте амнистии указано, что освобождаются те из осужденных в самых широких размерах, освобождение которых не представляет опасности для Республики. Если мое деяние подходит даже под 1-й пункт амнистии, если из самого дела видно, что Я вообще не принимал участия в какой бы то ни было политической деятельности, то казалось бы, что мое освобождение не представляет опасности для Республики. Я служитель церкви в высшем смысле этого слова, никогда никакой политикой не занимался, участия в мирских делах не принимал и принимать не буду, вот почему – освобождение меня из под стражи не представляет никакой опасности для Республики.
На основании вышеизложенного Я прошу Саратовский Революционный Трибунал войти в рассмотрение вопроса о применении ко мне амнистии, амнистировать меня и из-под стражи освободить.
Герман, Епископ Вольский (Николай Косолапов)
1919 г. марта 28 дня.»
Рассмотрев это обращение 2 апреля 1919-го г. председатель Саратовского ревтрибунала Артамонов А.П. с участием двух очередных заседателей принял решение о применении к Косолапову амнистии и освобождении его из-под стражи и на следующий день направил распоряжение об освобождении Косолапова заведующему Саратовской губернской тюрьмой, который это распоряжение исполнил.
Казалось бы, вот она свобода. Но не судьба! Революционное правосознание обвинителей в очередной раз победило Закон. Уже 4 апреля бывший обвинитель при Саратовском Революционном трибунале Гринь Л.И. направил Кассационный протест в Кассационный Отдел при Всероссийском Центральном Исполнительном Комитете Советов. Приведу его дословно, поскольку его содержание отражает отношение автора к Закону с позиции классовой борьбы.
«№ 141
Кассационный протест Л.И.Гриня,
направленный во ВЦИК
4 апреля 1919 г.
В КАССАЦИОННЫЙ ОТДЕЛ ПРИ ВСЕРОССИЙСКОМ
ЦЕНТРАЛЬНОМ ИСПОЛНИТЕЛЬНОМ КОМИТЕТЕ СОВЕТОВ
Бывшего Обвинителя при Саратовском
Революционном Трибунале
Леонида Игнатьевича ГРИНЯ
КАССАЦИОННЫЙ ПРОТЕСТ
6-го октября 1918 г. в Саратовском Трибунале слушалось дело КОСОЛАПОВА (епископа Германа) и других.
Приговором было определено Косолапову 15 лет тюрьмы с общественными работами.
По кассационной жалобе Косолапова (епископа Германа), Платонова и Хитрова, 5-го декабря 1918 г. дело рассматривалось в Кассационном Отделе (Определение № 485), постановившем о вторичном слушании дела, каковое и состоялось в январе 1919 г. Второй приговор относительно Косолапова (епископа Германа) был тот же, что и первый: 15 лет и общественные работы.
28 марта 1919 г. Косолапов (епископ Герман) подал прошение о досрочном освобождении, а 2 апреля Распорядительное Заседание Трибунала выносит решение «на основании амнистии 6-го Съезда досрочно освободить».
Прошу Кассационный Отдел отменить решение Распорядительного Заседания Саратовского Трибунала от 2-го апреля 1919 г., которое я считаю неправильным по следующим соображениям:
1. Тройка Распорядительного Заседания была составлена из новых лиц: никто из них не был в семерке, выносившей приговор.
2. Дело Косолапова (епископа Германа) слушалось два раза и оба раза неизменно он получал 15 лет; это указывает на то, что вина его ясна и никаких сомнений не возбуждает.
3. Косолапов (епископ Герман), как глава местного духовенства, должен быть более других ответственен за то течение среди него, которое выразилось в преступных действиях Платонова, получившего по первому приговору расстрел, а по второму 20 лет тюрьмы; но Платонов только энергичный «стрелочник», а Косолапов «генерал», получающий вдруг свободу. Явная, бьющая в глаза несообразность.
4. Дело слушалось два раза, при многочисленных свидетелях, защите, обвинении, при всестороннем и детальном обсуждении, два раза выносится одинаковый приговор, а 2-го апреля три человека, незнакомые с делом уничтожают росчерком пера долгую и сложную работу Следственной Комиссии, Коллегии Обвинителей и двух Заседаний Трибунала.
5. Актами, подобными амнистированию Косолапова (епископа Германа) или прокравшихся и исхулиганившихся явных и тайных наших «сотрудников», приговоренных к расстрелу, Советская власть ставится в положение, совершенно несоответствующее ее роли и задачам. Она становится не грозной и страшной ее врагам, а лишь устрашающей и пугающей с благодушием, достойным похвалы христианина, но вызывающей недоумение революционера.
«4» апреля 1919 г.
Леонид Гринь».
На этот раз те же члены Кассационного отдела ВЦИК: П.А.Красиков – председатель, Е.Б.Пашуканис, А.П.Платонов в присутствии председателя обвинительной Коллегии Н.В.Крыленко согласились с доводами протеста обвинителя и 5 мая 1919-го г. вынесли определение № 485, которым «постановление распорядительного заседания Саратовского Трибунала от 2 апреля с.г. отменить, оставив в силе приговор Саратовского Революционного Трибунала, вынесенный им в январе 1919-го г., коим Косолапов присужден был к 15 годам тюремного заключение с применением общественных работ, указав Трибуналу на необходимость немедленного заключения Косолапова под стражу».
Все же политическая целесообразность в этом деле, как, впрочем, и по другим делам того времени, оказалась выше Закона.
До октября 1919 г. епископ Герман и священник Платонов находились в тюрьме. А потом…
Потом Саратовская губернская чрезвычайная комиссия в своем заседании 8 октября 1919 г. постановила расстрелять за антисоветскую агитацию и как непримиримых врагов рабоче-крестьянской власти 13 человек (в том числе одну женщину). И возглавляли этот список епископ Герман (Косолапов Николай Васильевич) и священник Платонов Михаил Павлович. Приговор был приведен в исполнение в ночь на 10 октября. Тела расстрелянных были захоронены в общей могиле на Воскресенском кладбище г. Саратова. То есть в итоге они были репрессированы во внесудебном порядке.
России не удалось в начале 20-го века избежать страшной трагедии – революции, разделившей общество на противоборствующие стороны. Общество не пошло по мирному, эволюционному пути в решении имевшихся у него проблем, не сдержало воинственно настроенные силы, желавшие изменить сознание людей, их веру, руководствуясь ложными представлениями о том, каким должно быть общественное устройство.
Лишь спустя десятки лет поколение внуков и правнуков безвинно пострадавших от незаконных репрессий наших соотечественников очистят их имена от клейма «врагов народа». (окончание следует)

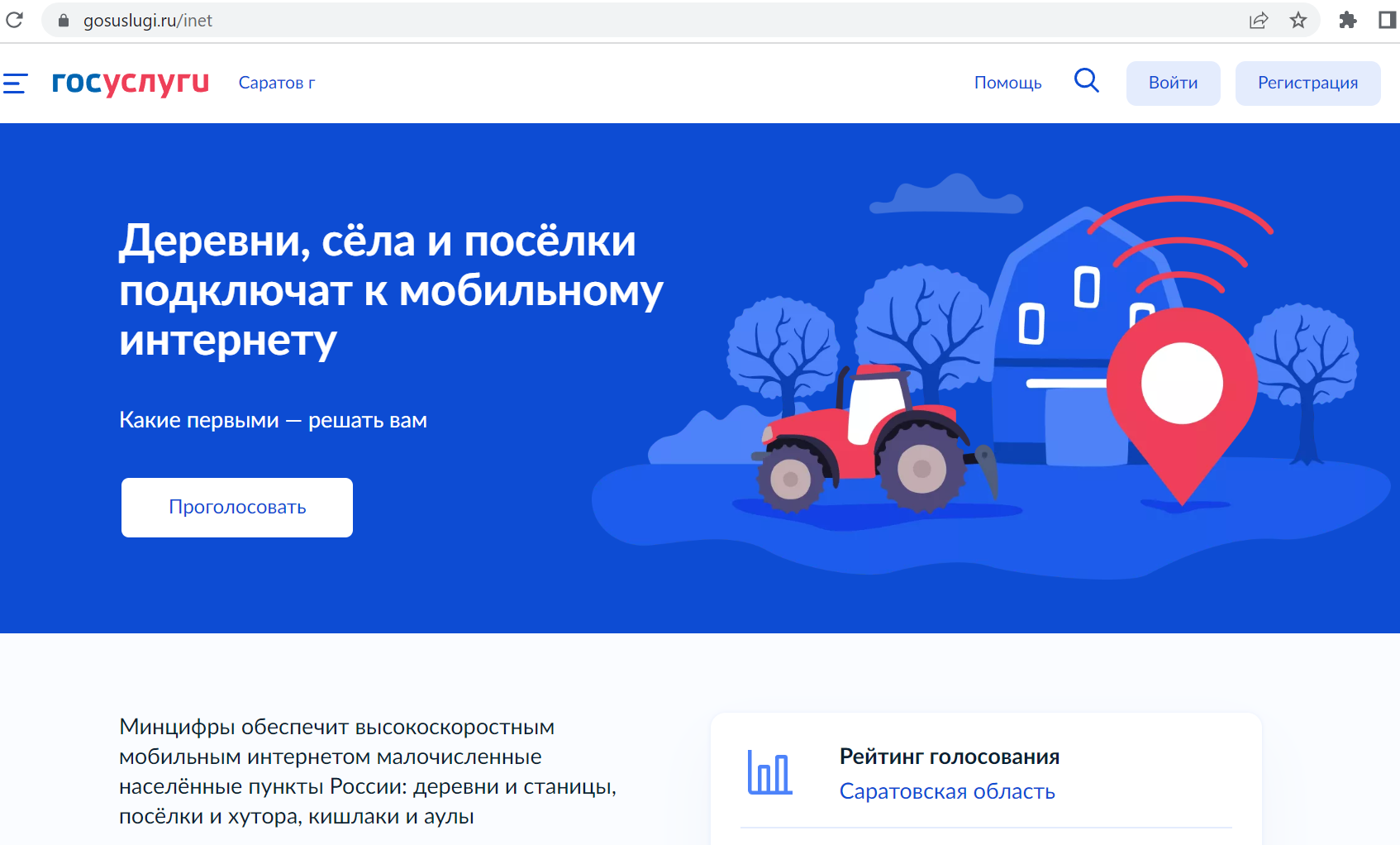





Комментарии: