Судебный процесс в храме искусств
Не суди́те, да не судимы будете,
ибо каким судом су́дите,
таким будете судимы;
и какою мерою мерите,
такою и вам будут мерить.
(Мф.7:1-2)
Памятным для многих саратовцев местом является расположенное в самом центре города здание, по виду напоминающее сказочный замок с ажурными балконами, острыми шпилями на крыше. Это государственная консерватория имени Л. В. Собинова, визитная карточка города. Ее первым ректором и основоположником с 1912 года был выдающийся музыкант и педагог С. К. Экснер. В стенах консерватории пели Шаляпин и Собинов, дважды выступал известный композитор Рахманинов.
На здании справа от главного входа прикреплена табличка из гранита, сообщающая о том, что здесь 26 октября 1917 года на заседании Саратовского совета была провозглашена Советская власть. А могла бы быть еще одна – о том, что в здании консерватории в октябре 1918-го года проходил первый показательный уголовный процесс против Саратовского духовенства.
Об этой трагической странице из истории нашего города мне стало известно совсем недавно после посещения музея «Саратовской православной духовной семинарии Саратовской епархии Русской православной церкви». На одном из стендов музея имелась фотография с судебного процесса над священнослужителями и посвященная этому книга кандидата исторических наук, исследователя церковной истории Саратовского Поволжья, Александра Мраморнова «Судебный процесс против Саратовского духовенства в 1918-1919 гг.».
Взяв в руки книгу и полистав страницы, я увидел знакомые имена моих коллег, с которыми прошли годы службы в прокуратуре Саратовской области – они принимали участие в реабилитации незаконно осужденных. Были там также фамилии известных российских юристов, рассматривавших кассационные жалобы осужденных священников. Захотелось узнать, как проходил процесс, привлечение к уголовной ответственности людей, вина которых была только в том, что они искренне верили в Бога, как и большинство наших предков. Кем были наши соотечественники, которых революция, гражданская война поставила по разные стороны баррикад? Какова судьба участников этого процесса?
На следующий день после посещения музея в книжной лавке собора Покрова Пресвятой Богородицы купил книгу А.И.Мраморнова.
Уникальность этой книги в том, что она базируется на архивных документах, материалах уголовного дела: протоколах заседаний ревтрибунала, обвинительных актах и приговорах, протоколах судебных заседаний и т.д. Стенограммы судебных заседаний революционного трибунала позволяют нам судить о том, как велось заседание, какие были выступления, профессионализм и психологию обвинителей, подсудимых и их защитников.
Интерес к процессу был необычайный. Тем, кто пожелал присутствовать на заседании трибунала, заблаговременно выдавались билеты для прохода в здание консерватории. Среди них были служащие советских учреждений и профсоюзов, учителя, врачи, студенты, представители духовенства. В день вынесения приговора, в октябре 1918-го года большая толпа людей собралась у здания. Опасаясь беспорядков, большевики разгоняли собравшихся выстрелами из оружия в воздух.
Началу деятельности трибуналов в России положил декрет Совета народных комиссаров «О суде» от 22 ноября (5 декабря) 1917-го года. Решение о создании трибунала в Саратове было принято на заседании Саратовского Совета рабочих и крестьянских депутатов в феврале 1918-го года. Совет утвердил состав суда в лице председателя и 24 заседателей. Этот состав напоминал, скорее, какой-нибудь боевой штаб и менее всего суд. Таким образом, процесс против Саратовского духовенства происходил в период становления революционной судебной системы. Это наложило отпечаток на характер разбирательства: с одной стороны, на нем имели место некая публичность, открытость и состязательность, с другой — даже на самом процессе у его участников присутствовала чувство предрешенности приговора, хотя внешне все было обставлено как акт подлинного правосудия, при котором окончательное решение выносилась в совещательной комнате. Кроме того, по составу судей это был не «народный», а чисто партийный, революционный суд, о чем открыто заявлялось на процессе.
28 сентября 1918-го года следственная комиссия трибунала вынесла свое заключение о передаче дела священника Платонова, епископа Германа и членов Епархиального совета в суд. Духовенству было предъявлено обвинение «в деяниях, имевших целью возмущение масс против Правительства Республики». Одна часть обвинительного акта была направлена против священника Платонова, «сочинения которого имеют все качества черносотенный литературы, рассчитанной на неизменность чувств, невежество и первобытное умственное состояние». Вторая часть обвинения была адресована Епархиальному совету, члены которого пытались «инсценировать запрещение богослужения в Серафимовской церкви Советской властью, и, оставаясь в стороне, объектом возмущенного чувства сделать Советскую власть».
В течение двух дней 5-6 октября проходили слушания дела: выступали обвинители, защитники, давали показания подсудимые, свидетели. На процессе в зале присутствовало большое количество народа, представители прессы.
Все свидетели, выступавшие на процессе, не подтвердили наличие какого-либо заговора со стороны служителей церкви и даже слухов о том, что церковь якобы была закрыта Советской властью (о чем шла речь в обвинительном акте).
6 октября 1918-го года Саратовский Революционный Трибунал в составе председателя и шести заседателей от имени Российской Социалистической Федеративной Советской Республики приговорил: гр. Платонова Михаила Павловича к расстрелу, Косолапова Николая Васильевича (епископа Германа) и Хитрова Алексея Матвеевича к тюремному заключению на 15 лет, с применением общественных работ каждого. Остальных членов Епархиального совета: Шкинева, Львова, Докторова, Анирова к условному тюремному заключению на 10 лет каждого.
После оглашения приговора жители Саратова и Вольска начали сбор подписей за помилование священника Платонова и за освобождение епископа Германа, протоирея Хитрова. К делу приобщены листы (более 70), на которых имена около десяти тысяч саратовцев, которые считали, что осуждение Платонова к расстрелу является «каким-то роковым недоразумением». Около трех тысяч жителей Вольска подписались под прошением об освобождении епископа Германа на свободу, поскольку он «занят был исключительно своим архипастырским служением, не вмешиваясь совершенно в политическую жизнь страны».
Кем же были главные участники этого процесса?
Епископ Вольский Герман (в миру Николай Васильевич Косолапов) родился в Саратове 22 октября 1882-го года. Его отец Косолапов В.В. происходил из купеческой семьи, окончил Казанский университет, потом служил на различных педагогических должностях, имел чин действительного статского советника. Мать – Косолапова В.Г. (урожденная Навашина) также была педагогом и в течение многих лет – устроителем собственной элементарной школы-пенсиона, находившейся в ее доме на улице Большая Кострижная, 41 (с 1927 г. ул. им. Сакко и Ванцетти). В 1902-ом году будущий преосвященный Герман окончил Саратовскую первую мужскую гимназию и поступил в Санкт-Петербургскую Духовную Академию, после окончания которой принял постриг и определением Святейшего Синода начал свою службу на различных должностях в учебных заведениях Православной церкви. Служил в духовном училище Курской епархии, был ректором Владимирской духовной семинарии. В феврале 1918-го года епископ Герман был назначен на Вольскую кафедру Саратовской епархии.
Настоятель Саратовской Серафимовской церкви Михаил Павлович Платонов родился 2 ноября 1868-го года в семье дьякона Нижегородской епархии. В 1888-ом году он, окончив 5 классов семинарии, стал учителем церковной школы. В 1897-ом году был рукоположен в сан священника церкви села Уварово. С 1907-го года он перешел на службу в Саратовскую епархию. Служил настоятелем Покровской церкви в селе Большой Мелик Балашовского уезда, а позже, с 1913-го года – настоятелем Серафимовской церкви, которая была построена в 1903 году на пожертвования жителей Саратова и располагалась на углу улиц Большой Горной и Университетской. За несколько предреволюционных лет Михаил Платонов наладил приходскую жизнь и стал одним из самых ярких проповедников в городе. Много времени уделял организации при приходе Серафимовского приюта для несовершеннолетних детей.
Анализ обнаруженных автором книги биографических данных обвинителей и судей позволяет сделать вывод, что это были в большинстве своем еще молодые люди, не имевшие жизненного опыта, на формирование личности которых сильное влияние оказала революция и проводимая антицерковная пропаганда начала 20-го века.
Одним из наиболее активных обвинителей на процессе выступал Л.И.Гринь, человек, состоявший в партии большевиков с 1905 года, который вел партийную работу в Петербурге, Пермской, Харьковской губерниях, был профессиональным пропагандистом и агитатором.
Уровень образования подсудимых и их защитников был заметно выше уровня судей и обвинителей. (продолжение следует)


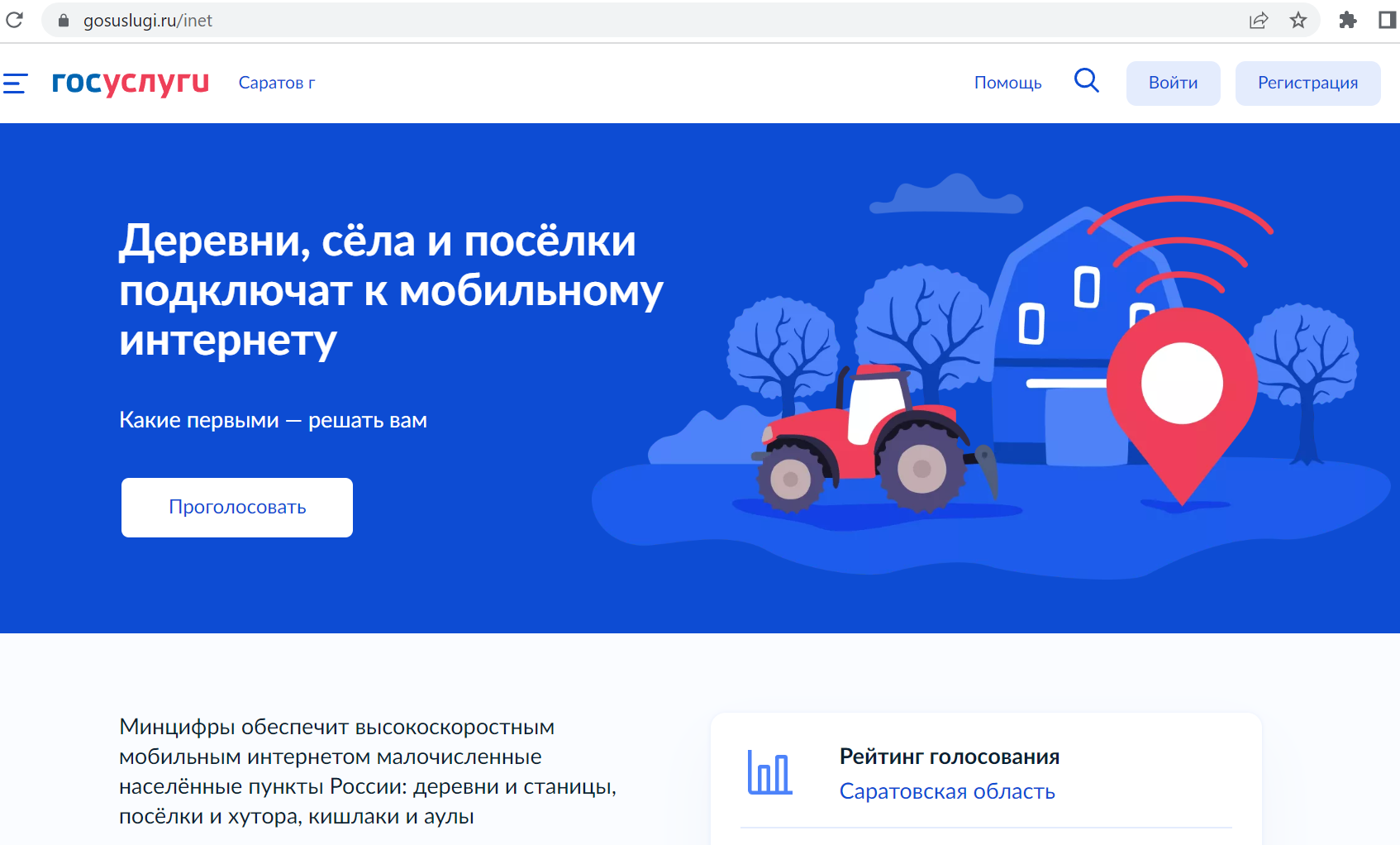





Комментарии: